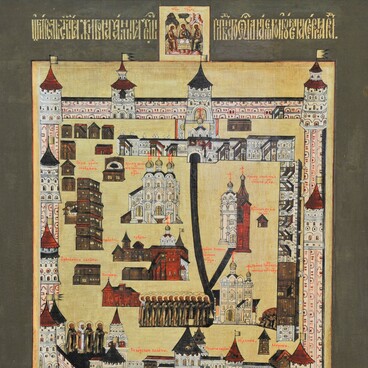В 1753 году императрица Елизавета Петровна, отмечая десятилетие своего восшествия на престол, посетила Лавру. Здесь в ее честь состоялось торжественное богослужение и был дан праздничный обед, завершенный иллюминацией и фейерверками. Тогда же последовал указ «Ея Императорского Величества… о перестройке обветшалых в ризнице оной Лавры и прочих местах вещей». В 1754 году был создан драгоценный оклад на Евангелие.
Само Евангелие отпечатали в Москве в 1689 году. Оклад выполнили из золоченого серебра, а изнутри обили красным шелком. На лицевой доске укрепили средник — центральную декоративную часть, наугольники и 12 дробниц — декоративных пластин, исполненных в технике сквозной чеканки с узорами из гирлянд, листьев, плодовых связок, вазонов с цветами. В центрах этих замысловатых картушей — розеток — вставили живописные эмалевые пластинки с «Троицей Ветхозаветной», евангелистами и «образами страстей Христовых». На дробнице с «Тайной вечерей» написали дату исполнения — «1752», на центральной «Троице» — «1751 октября».
Не менее эффектна и оборотная сторона Евангелия. На ней «вычеканен образ корени Иесеева» — аллегорического изображения родословного древа Иисуса Христа, а Богоматерь Владимирская и пророки тонко «наведены» эмалевыми красками.
В лаврских документах отмечено, что все образы «писаны на финифте самою знатною живописною работою». Художеству, в том числе и эмальерному (финифтяному), обучал лаврских мастеров, а также студентов троицкой Семинарии приехавший из Киево-Межигорского монастыря иеромонах Павел Казанович. Лаврские умельцы создавали маленькие живописные шедевры со сценами из Священного Писания, которыми украшали не только Евангелия, но и другие предметы богослужебной практики.
Письменные источники середины XVIII века сообщают, что «оное Евангелие все устроено из ризной казны», то есть изготовлено полностью на монастырские средства. Оклад не клеймен, и этот факт может означать то, что вещь выполнена в самом монастыре или, как тогда писали, «домашнею работою». При монастыре постоянно трудились несколько серебряников, они чистили вещи в ризнице, чинили поломанную утварь, изготавливали из драгоценных металлов предметы постоянного обихода. В особых же случаях вызывали мастеров-виртуозов из числа монастырских крестьян, отпущенных в Москву «для прокормления» своим ремеслом. Один из таких серебряников и выполнил этот оклад. Его имя осталось неизвестным.
Само Евангелие отпечатали в Москве в 1689 году. Оклад выполнили из золоченого серебра, а изнутри обили красным шелком. На лицевой доске укрепили средник — центральную декоративную часть, наугольники и 12 дробниц — декоративных пластин, исполненных в технике сквозной чеканки с узорами из гирлянд, листьев, плодовых связок, вазонов с цветами. В центрах этих замысловатых картушей — розеток — вставили живописные эмалевые пластинки с «Троицей Ветхозаветной», евангелистами и «образами страстей Христовых». На дробнице с «Тайной вечерей» написали дату исполнения — «1752», на центральной «Троице» — «1751 октября».
Не менее эффектна и оборотная сторона Евангелия. На ней «вычеканен образ корени Иесеева» — аллегорического изображения родословного древа Иисуса Христа, а Богоматерь Владимирская и пророки тонко «наведены» эмалевыми красками.
В лаврских документах отмечено, что все образы «писаны на финифте самою знатною живописною работою». Художеству, в том числе и эмальерному (финифтяному), обучал лаврских мастеров, а также студентов троицкой Семинарии приехавший из Киево-Межигорского монастыря иеромонах Павел Казанович. Лаврские умельцы создавали маленькие живописные шедевры со сценами из Священного Писания, которыми украшали не только Евангелия, но и другие предметы богослужебной практики.
Письменные источники середины XVIII века сообщают, что «оное Евангелие все устроено из ризной казны», то есть изготовлено полностью на монастырские средства. Оклад не клеймен, и этот факт может означать то, что вещь выполнена в самом монастыре или, как тогда писали, «домашнею работою». При монастыре постоянно трудились несколько серебряников, они чистили вещи в ризнице, чинили поломанную утварь, изготавливали из драгоценных металлов предметы постоянного обихода. В особых же случаях вызывали мастеров-виртуозов из числа монастырских крестьян, отпущенных в Москву «для прокормления» своим ремеслом. Один из таких серебряников и выполнил этот оклад. Его имя осталось неизвестным.